Глава первая получай тогда, Глава первая
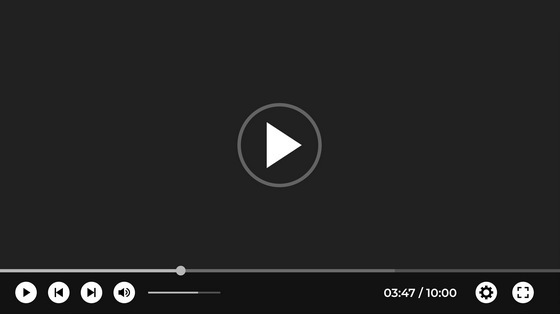
Мы едем во Флориду. Кроме того Нина была слишком тонким человеком и артисткой для того, чтобы в свою очередь не подпасть под очарование таланта девушки, аромата ее искренности и невинности. На следующий день, в разговоре с Олегом, желая соответственно обработать его мнение, Нина сказала:. И все же, эта машина должна быть твоей. Вали нафиг отсюда!
Получай смертельный выстрел! Хороший, плохой, я парень с оружием. Дай что-нибудь, чтобы выстрелить. Мы все иногда немного безумны.
Как пьяный, проигравший пари. Получай, ублюдок! Ваше кровяное давление — 0 на 0. Лекарство от головной боли , Задуйте их. Приди и возьми! Это бегущий фуршет! Я поторгуюсь с нежитью! На счету каждый патрон , Воскреси это! Это только поверхностная рана! Мы надрали этому задницу!

Достижения, получаемые только в кооперативе. На земле, но еще в бою. Прикрываю тебя сзади. Нуждающийся друг. Ты такой мертвый, что даже не догадываешься об этом. Я тебя научу стрелять!
Достижения орды. Друг, зомби меня пугают! Теперь вы встретитесь со смертью Вам придется работать за еду. У вас Они идут за тобой, Барбара! Достижения, связанные с коллекционированием или собиранием. Просто если у нас получится, Их нужно уничтожать сразу! Чувак, ты точно много знаешь о монстрах. Прочие достижения. Взрывная личность! Я надрал задницу Господу! Элитный карманник. Выжигание дыры в кармане. И не вставай! Почти все по закону. Ответь на звонок дьявола. Мы еще можем исправить его.
Милосердная смерть. Не волнуйтесь, они злые! Среди нас есть предатель! Момент прощания.

Игра довольно сложная для первого прохождения, но если попривыкнуть к её физике и баллистике, то вполне можно играть и одному : Достижения тоже не слишком сложные, проблемы могут быть с коллекциями, поэтому советую собирать их сразу при прохождении. Приятного прохождения : P. Вот вам страшная картиночка, чтобы знали, чего ожидать :D. Трилогия объединила все карты с прошлых частей Nazi Zombie Army и добавила ещё пять от себя.
За каждую пройденную главу имеются достижения и в сумме их пятнадцать. Кроме них есть ещё 3 достижения, получаемых при прохождении на определенных условиях. Успешно завершите главу "Деревня мертвых". Успешно завершите главу "Собор воскрешения". Успешно завершите главу "Лабиринт мертвых". Успешно завершите главу "Библиотека зла". Успешно завершите главу "Метро в ад". Успешно завершите главу "Чистилище".
Успешно завершите главу "Врата в ад". Успешно завершите главу "Горнило зла". Успешно завершите главу "Конечная станция". Успешно завершите главу "Башня адского огня". Успешно завершите главу "Город пепла". Успешно завершите главу "Товарный поезд страха".
Успешно завершите главу "Лес трупов". Успешно завершите главу "Твердыня". Успешно завершите главу "Армия тьмы". Уничтожьте оккультного генерала. Нужно убить босса-оккультного генерала. Он встречается в главах "Собор воскрешения", "Метро в ад" и "Башня адского огня". Достижение можно получить и в кооперативе, но достанется оно только игроку, создавшему лобби хосту , независимо от того, кто всадит генералу последнюю пулю.
Пройдите уровень каждым доступным персонажем. При прохождении глав каждый раз меняйте персонажа, за которого будете играть. Персонажи из обновления Left4Dead в зачёт достижения не идут! Успешно завершите все главы на сложности "Элитный снайпер". Пройти все пятнадцать глав на самой высокой сложности. Задача непростая, но можно проходить в кооперативе, достижение по завершении всех пятнадцати глав получат все.

Не обязательно проходить всю главу, чтобы вам засчитали прогресс достижения. Можно подключиться к игрокам, уже завершающим карту. В игре целых 26 достижений по убийствам нужного количества зомби или убийств зомби при определенных условиях. Убейте 5 любых врагов. Достижение будет получено само собой при выполнении остальных достижений. Просто играйте и не думайте о нем, трудностей не возникнет :.
Уничтожьте врагов выстрелами в голову. Трофей полностью накопительный, при наличии прямых рук выполняется очень быстро и не требует подсказок :.
Уничтожьте скелетов. Скелеты будут встречаться на протяжении всей игры группами по несколько особей или большими толпами в виде осад. Проблем с достижением возникнуть не должно, но, на всякий случай: в главе Башня адского огня ближе к концу на вас нагрянет орда скелетов. При увеличении врагов х4 за один заход убиваются около полутора сотен скелетов. Также можно фармить их на второй стадии убийства оккультного генерала, при х1 количестве врагов они будут регулярно спавниться по 6 особей.
Уничтожьте зомби-снайперов. Встречаются в каждой главе кроме, разве что, Товарного поезда смерти , причем, по несколько штук сразу. Большое их скопление будет в главе Лабиринт мертвых , поэтому имеет смысл сходить туда в одиночной игре.
Уничтожьте 50 зомби-самоубийц. Ещё одни частые представители зомби в игре. Будут встречаться как в одиночку, так и небольшими группами. В некоторых местах будут являться своеобразными "минными полями", выскакивая из-под земли и сразу взрываясь. Ваша задача-убить их до взрыва, либо взорвав их вашим выстрелом по гранате или динамиту.
Достижение спокойно выполняется при прохождении уже в эпизоде. Уничтожьте 20 элитных зомби в режиме совместной игры. Для получения достижения, и правда, нужно играть в кооперативе, но другие люди для этого не нужны.
Поэтому мы просто создаем лобби по приглашениям и играем одни. В описании достижения есть ошибка-убивать нужно не элитных, а суперэлитных зомби с пулеметом, так что прогресс этого достижения засчитывается и к следующему :. Уничтожьте 50 суперэлитных зомби. Если первым делом вы выполнили достижение " Получай смертельный выстрел!
В противном случае их понадобится больше. Мой метод фарминга суперэлиты заключается в использовании контрольных точек в одиночной игре. Мы выбираем 2 эпизод, главу " Башня адского огня " и идём до момента, когда после взрыва появится огненный демон. Тут можно фармить и его, но позже я опишу другой, более удобный вариант. После убийства демона и зачистки территории будет КТ, идём дальше, пока нам навстречу не выбегут 5 камикадзе при количестве врагов х1.
После их уничтожения проходим немного дальше и встречаем первого элитного зомби. В период империалистической войны оба брата тогда еще не имевшие священного сана пошли на фронт санитарами и собирали под огнем раненых, не желая ни проливать крови, ни держаться в стороне от происходившего.
Приняв священство и монашество в самое трудное для Церкви время, оба встали во главе молодежи как духовные руководители объединения. Первое время братство сгруппировалось вокруг Крестовой церкви, на территории лавры; оно включило в себя молодежь обоего пола, девушки в те дни носили белые косынки, которые очень скоро пришлось снять в конспиративных целях.
Перед братством была поставлена задача осуществить христианские идеалы и воскресить дух древнехристианских общин. Члены братства полностью обслуживали Крестовую церковь: пели, читали, прибирали, ухаживали за больными, о которых удавалось узнать, носили передачи заключенным, собирались для совместного чтения святоотеческой литературы, соблюдали церковный устав — исповеди, посты, посещение богослужения; занимались Законом Божиим с детьми так как предмет этот был запрещен в школах.
Очень многие поступили студентами в Богословский институт, только что открытый вместо разгромленных академий. Задачей ставили себе миссионерскую деятельность. Одушевление было очень большое, но осторожности, как и следовало ожидать, слишком недостаточно.
И Крестовая церковь очень скоро привлекла внимание гепеу. Осенью года был закрыт Богословский институт и разом арестованы все его руководители и профессора, а также все три священника и другие наиболее выдающиеся члены братства, которое оказалось, таким образом, обезглавлено.
Такие же расправы происходили и среди других братств. В течение первых нескольких дней опечаленная молодежь еще собиралась в Крестовой церкви, и многие в глубине души уже мечтали о мученичестве, но церковь почти тотчас была закрыта. Очевидно предполагалось, что члены братства связаны между собой главным образом территориально и с разрушением очага «контрреволюции» братство легко распадется, но связь успела уже упрочиться, идея пустила слишком глубокие корни!
Собираться стали на частных квартирах, украдкой осведомляя друг друга, на общие средства носили передачи арестованным «отцам». Собрания на квартирах бывали многолюдны, иногда до сорока человек, и часто чей-либо запоздалый звонок заставлял тревожно настораживаться. Но предательства внутри братства не было, и гепеу не удавалось накрыть братского собрания и выловить таким образом братство полностью, хотя они всячески охотились на него. Скоро в братстве образовался своего рода боевой штаб — в одной из квартир на Конной улице удалось устроить нечто вроде монашеского общежития: путем обменов и самоуплотнений удалось заселить всю квартиру братчицами из числа бессемейных девушек и женщин, все числились на советской службе — учительница, бухгалтер, библиотекарь, медсестра… По документальным данным это была типичная коммунальная квартира.
В каждой комнате жило по две девушки, центральная комната служила монашеской трапезной, туда были собраны образа, уставленные наподобие иконостасов, а посередине стоял длинный стол. Стены этой комнаты были сплошь уставлены стеллажами с книгами, принадлежащими арестованным отцам.
В этой комнате совершали трапезы, читали молитвенное правило утром и вечером и принимали приходящих. Квартира эта действительно играла роль главного штаба: туда стекались все новости из церковной жизни, оттуда исходили директивы членам братства, туда прибегали за сведениями, братские собрания происходили всего чаще именно там.
С потерей Крестовой церкви братство уже не имело своего храма, но несколько раз пристраивалось временно при какой-нибудь церкви, являясь туда со своим хором и чтецами для безвозмездных услуг. И это являлось одним из объединяющих моментов. Из недр братства вышла героическая пара — священник Федор Андреев и его жена Наташа. Оба были членами кружка по изучению монашества, сформированного при братстве еще в дни Крестовой церкви, и вот совместное изучение монашества закончилось счастливым браком!
Андреев был инженер по образованию и занимаемой должности и успел кроме того прослушать три курса Духовной Академии, продолжая работу инженера, он читал по вечерам лекции в Богословском институте. Когда стало известно о ссылках огромного числа священников, он героически заявил о своем желании принять священный сан. Молодая жена дала согласие, зная, на что идет, а сама в это время уже ждала ребенка. Деятельность Андреева была очень недолга: он был вскоре арестован и погиб, выпущенный из заточения за три дня до смерти, вслед за этим пропала в ссылке его жена.
Так же скоро был сметен с лица земли другой священник, пытавшийся заменить братьев Егоровых — отец Варлаам: это был еще совсем молодой человек из очень интеллигентной семьи, племянник адмирала, он также героически принял священство и также скоро попал в Соловки.
Священники появлялись и исчезали молниеносно, но братство не распадалось. Живучесть его была поразительна: на десятый год после первого разгрома оно еще продолжало подпольное существование. Одному из священников на допросе в году было сказано: «А ведь мы отлично знаем, что Александро-Невское братство все-таки существует».
Это знали, но накрыть хоть одно братское собрание, так чтобы выловить братство полностью, не смогли. Оно распалось из-за все возраставших трудностей подпольного существования и слишком многочисленных арестов и ссылок в своей среде — ставились в вину кому происхождение, кому религиозность, кому родство… Связь между отдельными членами стала медленно таять.
Еще в ом году квартира на Конной кое-как поддерживала эту связь. Такова была организация, в которую жажда подвига и религиозный голод привели Мику.
Со дня собрания на Конной улице он весь отдался братству. По субботам и воскресеньям отправлялся за Неву в Киновию, где братство в тот период опекало и обслуживало небольшую церквочку, и не пропускал ни одного братского собрания.
Старые-старые иконы с их потемневшими, застывшими ликами, золотые нимбы и овеянные ладаном песнопения, красота старинных уставных служб — все это было тесно связано с прошлым его Родины, это было новое и забытое в одно и тоже время, это было гонимо, стало быть, очищено от всего подкупленного и насильственного. Это одно не изменилось, не распалось, осужденное на смерть, и это одно явило ему идейных людей! Оставалось сказать: я ваш! Он ничего не рассказал Нине. Она говорит, что потеряла веру, так как Бог был с ней слишком жесток, как будто Бог — работник на нас, обязанный доставить нам процветание за то, что мы не отрицаем Его!
О, какое убогое понимание религии! Она ничего не поймет, нельзя делиться с ней! О нем он говорил Пете так: «Поздравь меня с новым родственником: сейчас объявился из Соловков. Бывший гвардеец, человек умный и волевой, внешняя отделка — ну там манеры, жесты, разговор — доведены до совершенства, а вот глубокой духовной жизни — нет. Понимаешь, нет возвышенного стимула: Родина, честь, погоны — вот его содержание. Тонет в предрассудках, старых — феодальных». Юному христианину не пришло в его многомудрую голову обратить внимание на тяжелое душевное состояние этого гвардейца и собственной сестры и с евангельской любовью попытаться помочь: он был занят собственным усовершенствованием, готовил себя к мученичеству.
Перед Пасхой, однако, волей-неволей, пришлось пересмотреть отношения с сестрой: все члены братства говели, и Мика понимал, что прежде чем приступить к Таинству, должен помириться с Ниной. Для него этот момент был сопряжен с очень большой трудностью, главным образом потому, что он очень давно не входил с Ниной в искренний, задушевный тон.
Однако это было необходимо. Неужели же я струшу? Несколько Дней он собирался с духом, наконец, в Страстную Среду — канун Причастия, сказав себе «теперь или никогда», постучался к сестре. Завтра я иду к Причастию — прости меня! Я тебя прощаю, конечно, прощаю! Я и сама виновата, — и слезы хлынули из ее глаз. Это было первое из наших несчастий! Я только что кончила тогда институт. Папа одной мне доверял возиться с бутылочками, в которых мы стерилизовали тебе молочко; мне одной разрешалось кормить тебя с рожка.
Я так тебя тогда любила! Потом в Черемухах я была плохая мать, я сама упустила нить привязанности. У меня тогда было слишком много собственного горя. Ты ведь и не знаешь всего, что на меня обрушилось. Я совсем забросила тогда своего братишку. Прости и ты: у тебя не было счастливого детства! Папа мог бы меня упрекнуть, — и слезы ее полились ручьями. Мика, ты осуждал меня, но… этот человек, Сергей Петрович, — он в самом деле любит меня.
Я скоро поеду к нему на месяц, и мы зарегистрируемся. Для тебя ведь это очень важно, ну вот, ты можешь не краснеть за меня больше, мой Мика! Тогда волей-неволей он примет мой вызов. Ведь я же не девушка, я старше тебя на 16 лет!
Даже в прежнее время честь вдовы не опекалась так, как честь девушки, а теперь все так спуталось: венчаются уже немногие, а советская бумажонка о браке так мало значит!
Бога ради, брось эти мысли, я хочу, чтобы вы были друзьями. Он теперь в ссылке, его можно только жалеть. А что мое детство было несчастливое, не ты виновата. Да и лучше, что несчастливое: не избаловался, по крайней мере и пришел к истинному пути.
Я долгих объяснений не люблю: нежным я никогда не стану, а грубым постараюсь не быть, хотя поручиться за себя трудно. А теперь все! Вот Ольга Никитична — это человек! Благодарю Тебя, Господи, что на грани моего отчаяния Ты одушевил меня! Нина всегда чувствовала себя растерзанной тревогами; это состояние стало с некоторых пор ее хронической болезнью. В последнее время ее пугала и расстраивала предстоящая ей поездка в Сибирь. Даже и этот месяц весьма проблематичен: быть может Сергей в таких условиях, что вдвоем и жить не придется.
Измучаюсь по дороге, а приеду туда и только еще больше расстроюсь». И она с некоторым страхом ждала известия о продаже знаменитого рояля.
В последнее время у нее появился поклонник — уже пожилой музыковед-теоретик, восхищавшийся ее голосом и глазами русалки. Он несколько раз провожал ее с концертов, покупал ей цветы и шоколад, а в последний раз напросился в дом и оказавшись с ней в ее комнате протянул было лапу к ее талии.
Как раз в эту минуту к ней постучался Олег; развязка отсрочилась, и теперь ей было ясно, что отношения с музыковедом следовало категорически пресечь, если она не желала легкомысленного романа. И она было собиралась это сделать, но каким-то образом дала втянуть себя в нелепую авантюру.
В Капелле кто-то рассказывал, что на одной из платформ по Московской железной дороге, в полуверсте от путей, с наступлением сумерек заливаются в кустах соловьи.
Несколько молодых сопрано заявили, что поедут их послушать; присоединились два-три тенора — и собралась компания молодежи. Позвали и Нину. Пожилой теоретик оказался тут как тут и заявил, что поедет тоже. Молодые сопрано смеялись, что в эту поездку не возьмут никого старше сорока лет. Нине было совершенно ясно, что старый плут едет ради нее и что все это отлично понимают.
Предполагалось, очевидно, что после слушания соловьев разойдутся парами по лесистым окрестностям в ожидании утреннего поезда, и объятия теоретика предназначались ей. Она была неприятно поражена тем, что не чувствовала того благородного негодования, которое должно бы было кипеть в ней, как в порядочной женщине. Поездка и атмосфера ухаживания интересовали ее больше, чем следовало. Она ни словом, ни жестом не показала, что поняла намерения относительно себя, однако и не отказалась от поездки, а между тем ей было совершенно ясно, что с тех позиций, на которых она стояла до сих пор: с позиций дамы прежнего общества, бывшей княгини и в настоящее время невесты человека, принадлежащего к ее же кругу, достойный выход из создаваемого положения был только один — немедленно отказаться от ночной прогулки, и ей было досадно на себя, что она не сделала этого.
Белые ночи, соловьи, сирень… и вот все складывается так, что я не должна ехать; никогда ни капли радости на мою долю!
Разыграть неприступность очень легко, но просидеть потом вечер и ночь в полном одиночестве у себя будет слишком невесело, а молодость проходит год за годом! Потом расскажешь мне, похохочем, — она почти убедила Нину. На следующий день, в разговоре с Олегом, желая соответственно обработать его мнение, Нина сказала:. Может быть, я не вернусь до утра; не беспокойтесь, если меня не будет.

Это тоже артист Капеллы? Я постучался к вам, чтобы предупредить ваш зов и из того, как вы старательно удерживали меня в комнате, вывожу, что он уже успел заработать по морде. Очевидно, соловьиные трели его мало интересуют, иначе, я полагаю, вы бы не согласились ехать. Нина невольно прикусила язычок. Мысленно она себе сказала: «Слышишь, глупая», — а вслух с выражением глубокого достоинства и слегка обиженной добродетели: «Разумеется, не согласилась бы».
Этот разговор показал ей, что она уже успела несколько отклониться от стрелки барометра, которая показывала хороший тон в прежнем светском обществе. Олег по-видимому или вовсе не допускал в ней колебания, или весьма деликатно подтолкнул ее в нужном направлении.
Неужели второе? Весь этот вечер она продумала над тем, как могло случиться, что она была уже на волоске от такого неразумного шага и едва не скомпрометировала себя в своем самом близком семейном кругу! Наталье Павловне, которая вся «Prude» [64] , показалось бы немыслимым, недопустимым, что невеста ее сына, бывшая княгиня Дашкова уехала на всю ночь слушать соловьев в компании хористов!
Видно годы одинокой жизни и советской службы не проходят даром, и вот как далеко уже проникла порча, которая в артистическом мире почти неизбежна!
Она вынула из сумочки фотографию Сергея Петровича и долго всматривалась в его лицо, как будто ища у него защиты против себя самой. На другой день она решительно отказалась от поездки, а проходя мимо теоретика, не ответила на его поклон. Судьба как будто ждала ее решения: в этот же день Наталья Павловна вызвала ее к телефону и сообщила ей, что рояль продан за четыре тысячи. Отпуск ее должен был начаться в ближайшее время и был предоставлен на месяц.
Она назначила было свой отъезд на конец июня, но неожиданно получила приглашение петь на летних концертах в саду Отдыха. Недостаток средств слишком остро давал себя знать, чтобы отказаться от такого заработка, и она стала хлопотать об отсрочке отпуска. В Капелле пошли солистке навстречу и отпуск был перенесен на сентябрь.
Это было связано с некоторыми неудобствами, так как сентябрь на Оби не так поэтичен и хорош, как под Петербургом, кроме того это лишало ее возможности присутствовать на свадьбе Олега, назначенной на первые числа сентября; тем не менее она решилась ехать в Сибирь осенью.

Наталья Павловна не могла отправить в это лето на дачу Асю, все из-за той же материальной нужды. Радуясь возможности не расставаться с женихом, Ася ни мало не была этим опечалена, тем боле, что Нина постоянно устраивала ей и Олегу пропуска на концерты, в которых пела.
Таким образом они могли вдосталь насладиться музыкой. Чем больше смотрела на Асю Нина, тем проникалась все большей и большей симпатией к этой девушке. Понемногу исчез всякий оттенок недоброжелательства и зависти, свивших было гнездо где-то в тайниках ее сердца. Впрочем, под лучами того искреннего восхищения и того самого нежного уважения, с которым относилась к ней Ася, могли, казалось, растаять глыбы льда, а не эти еле заметные образования в уголках исстрадавшейся души!
Кроме того Нина была слишком тонким человеком и артисткой для того, чтобы в свою очередь не подпасть под очарование таланта девушки, аромата ее искренности и невинности. Конечно, Ася с детских лет была слишком проникнута понятиями хорошего тона для того, чтобы от нее можно было ожидать каких-либо ужимок или кривляний теперь, когда она оказалась в роли невесты.
Естественность и гармоничность интонаций и жестов были усвоены с детства раз и навсегда, и все-таки Нину удивил такт Аси: капли обдуманного кокетства, даже слабого оттенка вольности или игривости нельзя было обнаружить в обращении ее с женихом, а между тем Ася не была суха или неприступна, напротив: она вся светилась лаской и нежностью к Олегу, встречаясь с ним взглядом она неизменно расцветала улыбкой, невозмутимая чистота одна воздвигала несокрушимую преграду.
Нет, я по природе другая: думаю, что при всех навыках хорошего тона, которые и мной были усвоены в той же мере, и при всей моей неиспорченности, я все-таки обладала тем внутренним огнем, который ничем не затушишь, и скрытыми чарами, действие которых я знала инстинктом, а эта — сама чистота».
Ася несколько раз приходила к Нине и была представлена Надежде Спиридоновне. Когда незадолго перед этим Нина сообщила о предстоящей женитьбе Олега, Надежда Спиридоновна переспросила «жениться? Какова бы не была жизнь — каждому хочется счастья. Ведь Олег еще молод! Нина едва сдержалась, чтобы не фыркнуть, и, намеренно невинным тоном и с безмятежной ясностью глядя на тетку, переспросила:.
Им непременно нужны какие-нибудь развлечения. Живут же в полном одиночестве женщины, например, я… а мужчина… ему непременно надо выкинуть какую-нибудь историю. Старая дева обещала поздравить, и Нина, успокоенная, вышла. Через несколько минут, однако, Надежда Спиридоновна сама постучалась к Нине; вид у нее был очень испуганный.
Знаешь ведь, года не пройдет — и уже ребенок, который не даст нам спать. Начнется увяканье по ночам, в кухне нашей развесят пеленки. Я без ужаса подумать не могу! Обещай, Нина, что ты, как квартуполномоченная будешь против. У него собственной площади нет, и настаивать он права не имеет.
Слышишь, Нина? Когда Олег привел Асю с официальным визитом к Нине и Надежде Спиридоновне, последняя, запрятав подальше свои опасения, проявила весь свой светский такт: она с очень милой улыбкой великосветской дамы поцеловала Асю в лоб. Правда, в ту минуту, когда она прикоснулась к этому белоснежному лбу, вид у нее на одно мгновение стал такой, как будто она прикоснулась к лягушке.
Тем не менее Надежда Спиридоновна очень мило участвовала в разговоре и даже поинтересовалась, у какой портнихи шьют Асе подвенечное платье, и посоветовала сделать его со шлейфом, далее она осведомилась о фамилии и происхождении шаферов и, услышав фамилии Краснокутского и Фроловского, удовлетворенно улыбнулась. Что значит, однако, порода! Надо будет подарить им что-нибудь к свадьбе, — и более к вопросу о браке Олега она не возвращалась. Но сюрпризы, как и печали, не приходят порознь: существует непонятный закон повторяемости.
Недаром и народная мудрость гласит: «пришла беда, растворяй ворота». Скоро выяснилось, что не только мужчины, но также и дамы, к притом самого хорошего тона не могут жить «без этого». Нина ничего не говорила тетке о предстоящей поездке к Сергею Петровичу, не желая волновать ее преждевременно.
Но в один августовский вечер, когда она, возвращаясь домой, размышляла как раз о том, что пора заговорить с теткой, Надежда Спиридоновна вышла к ней взволнованная, с красными глазами:. Я вдруг от Аннушки в кухне узнаю, что ты едешь куда-то в Томскую губернию на целый месяц. Как же так? Я как раз сегодня хотела поговорить с вами и сама бы рассказала вам все, — корректно сказала Нина.
Из-за мужчины скакать в такую даль?! Все отлично понимают, что ты едешь ради этого господина: ведь всем известно, что он там. Аннушка говорила при мне, не стесняясь. Боже мой, какой стыд! Жены декабристов в свое время вызывали откровенное восхищение всего общества. Отчего же, если еду к мужу в изгнание я, это стыд? Надежда Спиридоновна широко открыла глаза, минуту она постояла молча, потом ушла к себе.
Неизвестно, какие чувства волновали ее, пока она сидела у себя, но, как и в первый раз, очень скоро, она опять постучалась к Нине. Но Надежда Спиридоновна сказала:. Вот тебе в подарок браслет. Видишь, на нем надпись: «Dieu te garde [65] ». Это наш семейный браслет: мой дед, твой прадед, подарил мне его к моему совершеннолетию. Желаю тебе счастья! День отъезда приближался; две недели должно было занять путешествие туда и обратно и только две недели — для пребывания на месте!
За дни, которые оставались до отъезда, Нина еще больше оценила семью, которая ей становилась теперь родной: Наталья Павловна снаряжала ее, как могла бы мать снаряжать дочь-невесту, она даже подарила ей два нарядных гарнитура. Это тем более тронуло Нину, что накануне она слышала разговор: Ася, собираясь в ванну, тихо, просительным голоском обратилась к мадам: «А что же я одену после ванны? У меня и голубое, и розовое комбине — оба в дырочках? Сейчас же бери иголку!
Накануне отъезда, роясь в зеркальном шкафу, Нина наткнулась на младенческую распашонку. Несколько минут она задумчиво созерцала ее, потом окликнула Олега:. Это крестильная рубашечка, в которой крестили уже шесть поколений мальчиков в семье у Дашковых, в том числе и вас, и моего малютку.
Теперь вещица эта по праву принадлежит вам, а у меня если и будут еще дети, то ведь уже не Дашковы. Я уже давно попродавала все мои bijoux [66] , но эту берегла на черный день, все думала: если высылать будут… тогда пригодится.
Вот, возьмите, — и она протянула ему бархатный футляр. Эта драгоценность принадлежала вашей матери и вашей бабушке и должна быть у вас! Пусть это будет ваш свадебный подарок Асе. В футляре оказались чудесные старинные серьги с длинными жемчужными подвесками. Олег горячо благодарил. Наталья Павловна тоже предлагала мне, но Мика не захотел никуда переезжать. Олег обещал присматривать за ним, а моя Аннушка — готовить ему и Олегу. Я почти спокойна. Я на вокзал не приеду, не хочу видеть тех двоих… ты понимаешь.
Желаю тебе хоть на этот месяц любви и радости… Но смотри, будь благоразумна, теперь пришел мой черед сказать тебе: не попадись! Я ведь люблю тебя всей душой, хоть вы все и считаете меня эгоисткой. Когда вечером следующего дня Нина появилась на перроне в сопровождении Олега и Мики, тащивших каждый по чемодану, Наталья Павловна, мадам и Ася были уже там.
Мика со дня объяснения с сестрой держался с ней подчеркнуто холодно, как будто желая показать, что разговор, происшедший между ними, не должен повторяться и что никакое подобие сентиментальности не входит в число его многочисленных пороков. Но на вокзале, когда все провожающие уже выходили из вагонов, он в последнюю минуту прыгнул на подножку и быстро обнял сестру так, что выскочил уже на ходу. Когда Нина подошла к окну и еще раз взглянула на провожающих, она увидела, что Наталья Павловна осеняет ее крестным знамением и это в том состоянии душевной приподнятости, в котором она находилась, вызвало тотчас слезы на ее собственные глаза.
На столике купе лежали принесенные Асей розы и, благоухая, обещали счастье — короткое и печальное, но прекрасное! Наконец-то я дома! Я провела месяц отпуска на кумысе в доме отдыха «Степной маяк», в нескольких верстах от Оренбурга. Место красивое — холмы, покрытые степной травой, в долочках — березовые перелески. Пейзаж украшают табуны, которые еще остались кое-где и которых раньше было великое множество. Дом отдыха в виде нескольких маленьких коттеджей раскинулся на большом холме, в центре столовая и красный уголок ненавистное мне место, куда я ни разу не показала носа.
Среди отдыхающих ни одного интеллигентного лица — махровый пролетариат! Я, конечно, деражалась особняком, очень много гуляла одна, а находясь на территории курорта, утыкалась носом в книгу, чтобы не слушать плоских шуток и фривольного смеха, и не видеть грубого флирта, от которого тошно делается. Распущенность дошла уже до того, что обратила на себя внимание медицинского персонала: отпечатали от имени главного врача строгое запрещение отлучаться по ночам; это-де тормозит выздоровление отдыхающих и, таким образом, без пользы пропадают затраченные на их выздоровление государственные средства.
В одну ночь я была испугана внезапным светом фонаря, наведенного на мою постель дежурным врачом, который в сопровождении медсестры обходил палаты, проверяя, все ли на своих местах. Он сказал при этом: «Пока первая, которая на своей постели».
Пригрозили, что будут списывать с лечения тех, кто блуждает по ночам. Отдыхающие в большинстве были с закрытой формой tbc [67]. Одну меня нашли здоровой. Замечательно, что я всегда и везде представляю собой исключение: если дворян высылают, меня премируют; если все больны, я здорова; если все развращены, я целомудренна.
Зато я всегда, везде одинока. Никто не попробовал за мной поухаживать, как будто на лбу у меня красовалась надпись: «жизнеопасно». Я пользовалась большой симпатией только у официанток — простых девушек из местных крестьян, они даже прозвали меня «наша умница». Первое время я радовалась возможности отдохнуть на всем готовом и гулять по живописным холмам, но очень скоро вся эта обстановка так опротивела мне, что я дождаться не могла конца отпуска: стосковалась по своей комнате и тишине, и… Как только выйду на работу, узнаю у Лели, все ли благополучно.
Не понимаю, каким образом, рассказывая о курорте, я забыла описать картину, которая интересна даже с исторической точки зрения: курортная столовая представляла собой отдельный павильон, и каждый раз, когда мы, отдыхающие, выходили после наших завтраков и обедов, около дверей в два ряда стояли местные крестьяне — русские крестьяне: мужчины, женщины, дети, девушки и парни и… просили хлеба! Я не поверила бы, если бы узнала это из рассказов, но не могла не верить собственным глазам!
Случись такая вещь в царское время в одной из губерний после неурожайного года — какой бы поднялся протест в обществе, какая шумиха! Студенческие сходки, добровольные пожертвования, благотворительные базары, лотереи, бесплатные столовые… Но советской власти все сходит с рук, все разрешается — это, видите ли, колхозы насаждаются, это так называемый «крестьянский саботаж» — вот и все!
Слишком дорого обходятся твои опыты, проклятая власть! Была на работе, встретили меня очень радушно. Старая санитарка сказала: «Ну, теперь все пойдет правильно». Великолепный местком преподнес очередной сюрприз: наша общественность оказала мне честь и выбрала меня в культсектор. Отказалась, конечно, наотрез, так как вся эта пошлая хлопотливость, заменяющая подлинное дело и сопровождающаяся неизменным бряцанием языка мне невыносима.
Пора бы это уже запомнить нашим активистам. Надо сказать, что мое происхождение мне ставится в плюс: считается, что отец отдал жизнь за народ отца даже противопоставляют дяде — офицеру и белогвардейцу. А покойная мама, которая из любви к крестьянам преподавала в сельской школе как многие помещичьи дочки в анкете у меня зафиксирована, как сельская учительница — еще того демократичней! Забегала в рентгеновский кабинет к Леле: Олег цел и невредим, свадьба будет в первых числах сентября.
Узнала, что Лелей в кабинете все очень довольны и уверяют, что всячески будут стараться провести ее со временем в штат. Я могла ожидать этого от рентгенолога — друга дяди, тоже бывшего полевого хирурга, но его ассистентка, старая врачиха-еврейка, относится с не меньшей отзывчивостью, и это меня трогает.
След от разговора с ним — тогда, после его визита в гепеу — до сих пор как яркая полоса в моей душе, хотя прошло уже четыре месяца. Этот разговор определил мне мое значение, мое место в его жизни, смысл нашей встречи.
Я призвана стоять около него идейным стражем, пусть целует и обнимает другую, если не может еще подняться выше земной формы — я буду помогать им обоим, чем только смогу, чтобы сохранить его жизнь и силы для моей Руси.
Я буду следить за тем, чтобы в нем не ослабевали любовь к Родине и желание борьбы. Разговор этот показал нашу идейную близость и возможность и впредь подобных разговоров освещает мне сумерки одинокого пути! Я буду его другом, он будет приходить ко мне в минуты тоски… Как часто рядом с великим человеком стоит такая женщина — друг, и как редко таким другом бывает жена.
Я рада, что не возненавидела Асю. Был момент, когда злоба закипала во мне, но Ася меня обезоружила в то утро, когда прибежала ко мне вся взволнованная, вся раскрытая, и не побоялась заговорить прямо. В ней очень много сердечного обаяния, против которого невозможно устоять. Ненависть мутила бы мне душу. С ненавистью в сердце я не могла бы выполнять идейное руководство, это достаточно грубая эмоция, чтобы омрачить ясность понимания.
Я должна бороться с каждым самым слабым оттенком ревности, которая так унижает и будоражит дух. Новая волна террора! Я узнала от Юлии Ивановны, что 1 августа выслана в северные лагеря плеяда ученых: Платонов, Тарле, Болдырев и еще многие, многие. Юлия Ивановна, которая близка с семьей Платоновых, сама была на вокзале и видела, как цвет нашей мысли провели к поезду между двумя шеренгами вооруженных гепеу.
С тех пор это повторяется из года в год, с тою только разницей, что высылают теперь в лагеря, а не за пределы страны. Во всем таком большом прекрасном мире как будто все спокойно, а между тем в России планомерно истребляют потомственную интеллигенцию — русскую интеллигенцию, революционнейшую в мире!
В XIX веке гении сплетались у нас в созвездия: «Могучая кучка», «Современник», «Передвижники», «Символисты», труппа Станиславского, каждое имя в этих созвездиях — наша слава, и вот теперь… теперь подрываются самые корни культурных растений, а Европа равнодушно созерцает это! Прекрасный лик моей Родины, всегда сопутствующий моим думам, видится мне залитым слезами. Хожу по комнате, злюсь и реву потихоньку.
Я видела «его»: пошла навестить Бологовских, пошла, конечно, с тайной надеждой на встречу с ним, и не ошиблась. Он показался мне очень усталым и бледным; впрочем, мне теперь все кажутся такими после курортных красных лиц. Лучше мне было вовсе не видеть его, потому что я опять вся растравленная! Ася была такая хорошенькая, такая резвая, легкая, щебечущая; он глаз с нее не сводил. В ней есть что-то озаренное — это Психея, и вот к этому-то оттенку я ревную всего больше, больше, чем к красоте, я боюсь, что он и душу ей отдаст без остатка и я окажусь обобрана до конца.
Уж не знаю, что она сможет понять в его мыслях, не думаю, чтобы ее интеллект представлял собой что-либо ценное, но что-то дает иллюзию понимания: игра духа в глазах, в улыбке, в белом лбу. У меня мысли, которых, может быть, нет ни у кого вокруг меня, но они меня не украшают — остаются во мне. У нее их нет, нет, нет, но они словно светятся через ее оболочку — что за наваждение? Она играла одна, потом аккомпанировала княгине Нине Александровне.
Когда та запела: «О ком в тиши ночей таинственно мечтаю», — Ася подняла из-за рояля глаза и улыбнулась… их взгляды встретились… Нет, видеть их вместе все-таки выше моих сил! Вчера, записывая, я расстроилась, и главного не рассказала: ведь я с ним разговаривала! Мы вышли все вместе: он, княгиня и я.
Княгиня его спросила: «Вы опять не обедали? Он получает теперь пятьсот рублей в месяц, но не желает ничего почти из этой суммы тратить на свое питание: купил себе френч, рубашки и воротнички, а в настоящее время охотится за полуботинками, а между тем он голодал так много и долго, что следовало бы в первую очередь вернуть себе силы. Ася вас будет любить и без новых ботинок, не беспокойтесь! И заговорил о другом.
Я узнала из их разговора, что Нина Александровна на днях уезжает на Обь к высланному Бологовскому, своему жениху. По рассказам Аси у меня составилось впечатление, что это очень изысканный и умный джентльмен.
Княгине выпал на долю романтичный и красивый жребий — ехать к ссыльному, а я вот слишком много думаю о подвигах и жертвах, зато они все идут мимо! Такова судьба! Княгиня уезжает послезавтра. Я решила, что пойду провожать на вокзал. Я уверена, что он будет, но дело не только в нем на этот раз: она едет к ссыльному и следует выразить тах1тит сочувствия.
Я по крайней мере считаю себя обязанной солидаризироваться! Чтобы мне снести ей: цветы, конфеты? Я попала в круг аристократии и должна признаться, что эти звонкие старинные фамилии, утонченность манер, грассирующий говор и французские фразы — все это теперь, в ореоле террора и нужды, импонирует мне.
В сущности, это чужой мне круг: мы скромные, мелкопоместные дворяне — трудовая интеллигенция. В прежнее время наша семья никогда не искала связи с высшими мира сего. Около нашей усадьбы было имение князей Кисловских, они рассылали иногда приглашения соседям, в том числе и нам — ни отец, ни мать, ни бабушка не желали у них бывать; в Смольном со мной училась княжна Оболенская — титул ее не играл никакой роли в моих глазах; уверена, что и теперь было бы также, если бы не было революции.
Но если русскую интеллигенцию, и в первую очередь дворянскую, так оплевывают и так терзают, если аристократию уже почти всю извели, а слова «паж», «лицеист», «камергер», «гвардеец», «сенатор» звучат почти как приговор — моя симпатия на стороне гонимых, как и всегда!
В их лице гибнет класс, который дал России слишком много великих имен для того, чтобы не простить тех нескольких, которые были не на высоте, и я отстаиваю честь этого знамени! Не говорю уже о том, что мне посчастливилось встретить в их среде людей с исключительными душевными качествами, не говорю о человеке, которого люблю.
Дежурство в больнице помешало мне быть вчера на вокзале. Сегодня, когда я возвращалась домой, я увидела его и Асю у нас на лестнице: в квартире им сказали, что я скоро вернусь, и они дожидались меня, сидя на окне.
Они пришли, чтобы пригласить меня на свою свадьбу! Улыбнулась и сказала, что буду; хотела усадить их пить чай, но они торопились еще к кому-то. Прощаясь со мной, он сказал: «Мы сегодня были в загсе, можете поздравить Асю с получением высокоаристократической фамилии! Загс для них, конечно, пустая формальность, которая нужна только потому, что без нее теперь не венчают. Свадьба назначена в день именин Натальи Павловны. Была у Бологовских.
Меня тянет туда, как к месту казни! Нашла всех в предсвадебных хлопотах. Олега не было. Теперь все это она отдает внучке, вплоть до прелестного туалетного прибора гараховского стекла с пудреницей и вазочками, а сама переходит в библиотеку, где помещалась француженка, а та, в свою очередь, переселяется в проходную, кажется, в бывшую диванную, где до сих пор спала Ася.
Я нашла всех взволнованными этим переселением. Ася даже плакала, повторяя, что ни за что не хочет лишать бабушку ее удобств и привычек. Она с очаровательным видом уверяла, что отлично устроится с мужем в проходной, где ему можно раздвигать на ночь дедушкину походную кровать.
Француженка в азарте кричала, что слышать этого не может; Наталья Павловна убеждала очень мягко: «Это мой свадебный подарок вам обоим, я хочу, чтобы тебе было уютно и спокойно и чтобы у тебя все было, как должно быть у молодой дамы!
А я отлично устроюсь в библиотеке». Олег Андреевич, кажется, еще не посвящен во все эти подробности, чтобы помочь в перестановке был вытребован старый лакей — очень благообразный тип прежнего слуги, Наталью Павловну величает «ее превосходительство» и брякнул это в кухне при соседях к ужасу мадам, которая при всех подскочила к нему, махая руками.
В общем, у них было очень оживленно, но как-то неспокойно: все были слишком взвинченные, я скоро ушла, чувствуя себя лишней. Леля тоже была там и занималась перевешиванием бесчисленных фотографий и миниатюр, которые помещались над письменным столом Н. Столик этот, втиснутый в спальню после потери будуара, переезжает с Натальей Павловной в библиотеку.
Леля в этом доме совсем своя, и это вызывает во мне иногда досаду, не понимаю почему. Сегодня у нас больнице была операция такого типа, какую делали когда-то ему, вспоминались с мучительной ясностью минуты в госпитале; я заново переживала все и домой пришла совсем разбитая. Завтра моя Голгофа! Я верю, что ничем себя не выдам; знаю, что у меня хватит сил, я уже себя знаю. Совершилось; этот день кончился, они вдвоем сейчас, а я… вот, сижу за дневником… Расскажу все подряд.
Я пошла к ним пораньше, чтобы помочь в хлопотах и, по просьбе Натальи Павловны, присутствовать в качестве подружки при одевании Аси. Наталья Павловна продала для этой свадьбы бриллиантовую брошку и, по-видимому, хочет, чтобы все было как можно лучше и был соблюден весь ритуал. Когда я пришла, обеденный стол был уже раздвинут, к нему приставлен ломберный и самоварный, и все это закрыто огромной старинной белой скатертью.
Около стола хлопотала француженка с незнакомой мне дамой, которая хоть и была в штопанном платье, однако выглядела исключительно distinguee [68] , это оказалось мать Лели — Нелидова. Меня встретили известием, что Ася, несмотря на запрещение отлучаться из дому, куда-то незаметно убежала, пользуясь суматохой.
Надо сказать, что от Аси очень мало толку при общих хлопотах: она все делает очень охотно, но вместе с тем чрезвычайно легко отвлекается и расшаливается, а деловитости не вносит ни во что. Я стала помогать перетирать хрусталь и расставлять бокалы.
Прибежала Леля с корзиной серебра и рюмок, за которыми Наталья Павловна посылала ее к своим друзьям Фроловским, так как десертное серебро и бокалы частично были уже давно распроданы, и теперь их не хватало; стол накрывали на 25 персон — в прежнее время накрывали бы, наверное, на сто!
Старый слуга явился во фраке и белых перчатках, приглашенный прислуживать за столом; я сразу подумала, что он будет самый парадный из всех мужчин, так как ни у кого из этих пажей и лицеистов фраков теперь, конечно, нет. Все время раздавались звонки — это доставляли корзины из цветочных магазинов; от Нины Александровны принес чудесную корзину ее брат — славный мальчик лет 14 с живыми умными глазами; он застенчиво помялся на пороге и почти тотчас убежал, сколько ни уговаривала его Наталья Павловна.
Я смотрела на карточки, прикрепленные к корзинам, все известные русские фамилии; меня удивила только одна: «супруги Рабинович». Кто бы могли быть эти евреи? Корзина одна из самых роскошных, я поставила ее Асе на туалет, их комната — сад! Мадам Нелидова велела дочери разбросать на кроватях нарезанные левкои. Леля убежала в спальню, но через минуту вернулась, показывая медведя с оторванным ухом, которого нашла под подушкой на новом ложе Аси. Дамы дружно рассмеялись. Как раз в эту минуту прибежала Ася: в старой бабушкиной тальме и легком темном шарфе, она как-то растерянно остановилась посередине комнаты.
Тотчас приступили к ней с вопросами: «Как смела она уйти, да к тому же еще с мокрыми после ванны волосами? С медведем собралась спать, как маленькая девочка! Возчики повернули к ближней деревне на ночевку, не зная, прогадали они или выгадали. Товар, как-никак, сбыли. И дорога короче вышла. И напоследок добрый покупатель по горсти махорки отсыпал.
Это верно. Однако же на цене промахнулись. Тоже никуда не денешься Обоз налегке ушел в вечернюю мглу. Кудрявый толкнул Ефрема в плечо: — Учись, жених! С наших возов барыш не копейками, рублями считать будешь. А Ефиму объяснил: на чебоксарском базаре за такое зерно хоть сейчас по четыре алтына набавят.
Весною же да летом, до нового хлеба, и того более дадут. Жито подорожало еще осенью, когда по всем приметам выходило, что неурожаем грозился господь покарать нас за грехи наши. Не зря старики говорят: дорогой хлеб должен быть нынче. Так что с продажей и повременить можно. Пусть хлебушко в амбаре полежит, силу наберет С доставкой на чебоксарский базар опять же опасаться не приходится.
Алдермены, посланные от градской думы, что готовы головы поотрывать купцам да мещанам, учиняющим дорожную перекупку хлеба, изобличить кудрявого с Ефимом не смогут. Куплено от города далеко, и в свидетелях — один серый волк. Поди лови его, такого свидетеля-то! А время придет, и привезет Ефим хлебушко прямо на хозяйский двор. Кому какое дело, откуда он и кем куплен?! И еще что-то вполголоса говорил отцу чебоксарский знакомец, и Ефрем вздрогнул, ненароком заметив в глазах его зеленый волчий огонек К Шинерпосям подъехали уже при луне.
Лошади натужно тянули груженые сверх меры возы. Черные тени рывками двигались по обочине. Кули сложили в амбар, прикрыли пологом. Ночевать кудрявый не остался, запряг отдохнувшую кобылу в легкие санки, плотно завернулся в тулуп и укатил в Чебоксары, быстро затерявшись в голубом просторе морозной лунной ночи.
Прикрыв за ним хапху, Ефрем вдруг услышал далекий волчий вой. Где-то в той стороне, откуда они только что приехали, текли-ширились угрожающе-яростные вопли, тревожили чуткое лунное сияние, постепенно замирали, спадая до глухой, затаенной тоски.
И в эти минуты Ефрему само собою подумалось о чебоксарском знакомце, о зверином зеленоватом огоньке в глазах его, нечаянно замеченном по дороге. Подходя к дому, вспомнил Ефрем и отцовские слова про большое брюхо зимы. Выходило, что зима не только себе метет, как в прорву. Умелому да ловкому она и сама дать может. Да так, что брюхо через поясок перевалится. Весь угол в амбаре заложил Ефим мешками с зерном. Рядом поставил крепко сколоченный ларь, наполовину засыпал его мукой.
Знакомец появлялся каждый раз нежданно-негаданно. На дорогу выезжали к вечеру, возвращались ночью. Лошадей у своих деревенских больше не брали. Кудрявый помог купить в долг второго кормильца — сытого, не старого еще мерина и сам приезжал в глубокой курманке, на паре безотказных лошаденок. Придорожный промысел вели и вокруг Чебоксар, и вблизи иных базаров. Летом хлеб переправили с ефимовского двора в городские каменные амбары, туда, где прошлой осенью Ефрем колол дрова для толстой веселой майры.
Однако на этот раз майра была скучной и, пока Ефрем таскал кули, ни разу не взглянула на него. Даже когда отец с кудрявым ушли в дом, оставив Ефрема около лошадей, толстуха прошла на кухню молча, безучастно посмотрела куда-то под ноги и не позвала за стол, как той памятной осенью От хозяина отец вышел довольный, поглаживая грудь под рубахой болтался кошелек, позвякивал медью и серебром — дорожной ефимовой долей.
Кудрявый кивнул в сторону Ефрема: — Зря парень нашу королевну глазами ел. Другую искать надо. Отводя тяжелую, окованную железом створку ворот, сверкнул зеленым волчьим огнем, дохнул винным перегаром: — Не робей, без бабы не будешь. Ефим посмотрел на него исподлобья, потемнел: не в чувашском законе так при отце с сыном разговаривать!
Примерился было с досады кнутом на лошадь, но вспомнил мешочек под рубахой, плюнул и степенно выехал из каменных ворот, тронул к базару. Ехал, думая об Ефреме. В плечах сын раздался. Окреп, как дубок. Отца-мать слушает, церковь почитает.
За работу примется — сноровистый, зря лапти не дерет Пожалуй, и впрямь время сноху заводить, — чтобы и работящая была, и не с пустым сундуком. Чтобы, калым, одним словом, зря не везти Кудрявый, он, конечно, охальник.
Однако, как говорят, в воду не полезешь — плавать на научишься. А Ефрем в деревне жених не из последних. Не всякому общество отдаст стадо без долгого спору, как отдавало его Ефиму с сыном. Не одно лето исходили они по выгонам и лесным опушкам, по берегам Рыкши и Цивиля, оберегая от траты и мора малорослых коровенок, бестолковых овец, поджарых, как коромысло, свиней с длинным звериным рылом и двухвершковой щетиной на хребте. Сполна и исправно отвечала им деревня зерном и мукою.
Платила, как платят не часто и только за большое старанье и надежность, за спокойствие общества А вот этим летом поклонился Ефим односельчанам. Не с руки, мол, получается — смотреть за стадом.
В будущие времена как придется, а пока не с руки: — Спину чегой-то схватило, два веника в бане исхлестал, терпенья нет, а не помогает Ефрему одному не уследить — молод еще Зла, мужики, не держите. Дело укажет — послужим, а пока не с руки Почесала деревня в затылках, пожалела, — исправный был пастух Пришлось нанимать другого. А по Шинерпосям, словно дымок из прожженного кармана, поползли-зашуршали слухи о неожиданном богатстве, свалившемся на Ефима.
Не то пас он стадо и приметил на лесной опушке неведомых пришельцев, выследил у них землянку с сундуком, полным золота Не то настиг разбойничков за дележом лихой добычи под мостом, разогнал злодеев и вылез из овражка богачом не хуже чебоксарского купца Не то нашел за Волгой клад Степана Разина, и даже не за Волгой, а у себя в огороде, под лопатой, глухо звякнувшей о железный ларец Как-то встретила соседка у родника Катюк, огляделась по сторонам: — Слышь-ка, в деревне говорят, будто вы денег много нашли.
Правда, что ли? Катюк опешила, замахала руками: — Что ты, что ты! Откуда у нас деньги! Вон лошадь вторую завели. Одни долги.
До денег ли! Соседка обидчиво поджала губы, поглядела в сторону: — Я-то что, я ничего Только в деревне вот говорят Узнав про соседкины расспросы, Ефим на спеша набил трубку, подымил и сказал Катюк, понизив голос: — Пускай говорят. А ты помалкивай. В кладе греха нет. Клад от бога. А сам подумал: «Теперь и мы калачи есть умеем! Ивовый кол, забитый на берегу пруда или на склоне оврага, глубоко пускает корни, достигая затаившихся в земле холодных струй, обрастает хлопотливой кроной.
Пройдет каких-нибудь пять-шесть лет, и стоит уже вместо кола молодое дерево, подрагивая острыми листьями, золотится медвяными сережками. И жужжат над нею пчелы, в тень пристраивается уставший человек. С годами крепнет узловатый стан дерева. Серебристо-седая борода ветвей склоняется над гладью зеленой воды. А через многие десятилетия, когда отслужит ветла положенный ей срок, могучий кряж ее разделывают на дрова или укладывают в переход по запруде, а у широкого пня пробиваются чуткие стрелки новых побегов После пьяного намека о бабах, брошенного кудрявым Ефрему в городе, словно кость приблудной собаке, всерьез задумался Ефим над завтрашней судьбой сына.
Размеренным шорохом ветвей напомнило-нашептало ему дерево-друг об обычаях предков — о том, что пришло время высмотреть для сына помощницу в хозяйстве, продолжательницу рода, и чтобы была она работящая да скромная, и была бы за нею богатая родня, которой и большой калым-выкуп отвезти не жалко.
Отцу виднее. Ефрем по своему разумению уже два раза выбирал — и все невпопад. У одной, шинерпосинской, отец баламут был; с такой родней и лыка на лапти не надерешь. Пришлось Ефиму на стариков кивать. Они, мол, знают, что деревня от одного родоначальника происходит и все в деревне в родстве состоят. А потому жену здесь искать — грех.
Другой раз облюбовал Ефрем красавицу из волостного села, да бедную из бедных, с целой оравой сирот от неродной матери.
Ефим, узнав о такой оплошке сына, только плюнул и с досады не смог даже сразу нашарить трубку в карманах. А выкурив, с обидой уставился на Ефрема: — Выходит, не добро наживать собрался, чужих оборванцев кормить?.. Неужто не знаешь: у бедного и отродье бедное Да только не для них отец твой старается. Так закончилась и вторая попытка Ефрема. Одним словом, пришло время самому родителю подумать о судьбе наследника, исподволь подтолкнуть его к достойной жизненной тропе.
Не раз приходилось Ефиму с сыном, бывая в поездках по необходимости торгового хлебного промысла, проезжать Писарино. Деревня эта стояла около главного тракта, обозначенного белоствольными березками. Вправо от Писарина — в губернию, влево — в уездный город. Потому, видно, и жили здесь оборотистые мужички; можно было у них и на постой стать, и базарные цены узнать, и насчет аренды амбара или другого помещения договориться. И случалось по таким надобностям заезжать Ефиму в Писарине к новокрещену Филиппу Алексееву.
Пока Ефим вел у него свои разговоры, Ефрем с молчаливого согласия отца шел на гульбища, к сверстникам и сверстницам. Там, под ветлами, около затаенного родника, приглянулась Ефрему тонкая, как березка, девушка с пугливым румянцем на бледном лице.
Лукавые подружки за щедрые пригоршни пряников свели ее с Ефремом. И с того мгновения, как жесткие, крепкие от деревенской работы ладошки Степаниды Филипповой легли в большие грубые ладони Ефрема, постоянно думал он о них — теплых и пугливых. На этот раз Ефим, а с ним и отец Степаниды Филипп Алексеев одобрили выбор. И в долгожданный день, когда Ефрем приехал в Писарино не только с отцом, но и с крестным, и Степанида подносила ему полный до краев резной ковш, смотрел Ефрем не на золотистую пену хмельного пива, а на ладные, слегка дрожавшие девичьи руки.
Была Степанида на три года старше Ефрема, но болезненно истонченное лицо молодило ее, а упругие ладошки нечаянно выдавали юные силы ее стройного худощавого тела.
Единственная дочь в семье, Степанида с покорностью не один год ждала родительского слова и, как подружки, отданные старым да нелюбимым, готовилась привычно оплакать свое девичество.
Но вот наступил час ее судьбы, а на сердце легко! И если наворачивается слеза, то не от горя — от радости, оттого, что принимает ковш из ее рук единственный, любимый на всю жизнь, а родители одобрительно-ласково следят за каждым ее шагом Потом, когда старики вели притворный торг, положив кошелек с калымом на теплый ржаной каравай, молились, выспрашивая у бога для детей дружной и согласной жизни, Ефрем, окруженный подружками Степаниды, краснея, рассматривал в амбаре платья, головные полотенца — сурбаны, искусно вышитые невестой, нарядные шульгеме, блестевшие бисером и монетами, шапочки-хушпу, усыпанные старинными серебряными монетами, узорчатые лапотки, пахнувшие весенней ветлой.
Обычай требовал похвалить невестино рукоделие, и Ефрем, пересиливая проклятое смущение, сказал зардевшейся Степаниде не в меру громко и важно: — Ничево. В хозяйстве сгодится Свадьбу сыграли в июне года, до сенокоса. На всю округу шумело Писарино, когда из Шинерпосей явились за невестой жениховы посланцы. Призывно били барабаны, тревожа молодые и старые сердца. Любовной тоскою звенели шыбыры — древние пузыри. Думы о прожитом будили гусли, заставляя поникать седые головы.
И над деревней, укрытой ветлами, высоко взлетали песни-припевы, достигали главного тракта, и ямщики пыливших в губернию или в уезд кибиток, оборачивались на вопросы седоков, говорили с плохо скрытым самодовольством: — А то чуваши свадьбу играют! Несколько дней гуляли Шинерпоси на свадьбе у Ефрема.
Не один бочонок загодя припасенного мартовского подснежного пива, не одно ведро жгучего хлебного вина было выпито на свадебном пиру. Горячие куски баранины и говядины, свинины и курятины, пироги с полбяной начинкой, душистые хуплу и шыртан, сырники и лепешки на меду, моченый горох и каленые орехи прошлогоднего сбора несли на столы захмелевшим гостям сбившиеся с ног хозяева.
Не одна пара лаптей была разбита в отчаянной пляске. И долго не могли потом прийти в себя охрипшие участники свадебного буйства А для Ефрема со Степанидой после возвращения из церкви вся эта сумятица ушла куда-то далеко в сторону, как уходит на повороте от большой шумной дороги тихая тропа.
И где бы ни были они, — вдвоем или на людях, — бережно держал он свою большую руку на маленькой теплой руке Степаниды, ставшей родной ему до окончания века. В этом отрешении их от привычного мира забылась, ушла на повороте жизни из памяти даже зловещая примета, случившаяся в Писарине. По древнему дедовскому обычаю пустил дружка с невестиного двора стрелу на восток: далеко улетит стрела — долго жить молодым, недалеко — недолго.
И то ли дружка захмелел раньше времени и тетива ненароком соскользнула с его жирных от хуплу пальцев, то ли была на то неисповедимая воля господня, только мальчишки, бросившиеся за стрелой, очень скоро принесли ее от близких ветел.
Тупо заныло тогда в груди у Ефрема, и носил он сумеречную тяжесть на сердце, пока не свершилось таинство венчания и не остались они со Степанидой наедине, позабыв и о безжалостной вестнице-стреле, и обо всем, обо всем на белом свете Вечерами ломило грудь, беспричинно забивал кашель, по лицу бродили нехорошие бледно-розовые пятна, все чаще тянуло к теплой печке.
Только мысли о сыне заслоняли недомогание. Пока не стал Ефрем в делах надежно на обе ноги, пока не набил потаенную кубышку о ней давно ходили в деревне завистливые слухи , не мог оставить его отец без совета и поддержки. Крепко надеялся на сына Ефим Мартынов. Был Ефрем и в холостячестве парнем работящим, баловства не знал, а женившись, стал еще степеннее. Случалось ему теперь ездить в город с отцовскими поручениями самостоятельно. Понаторел он в русском разговоре, умел продать и купить, умел промолчать когда надо.
Нет-нет да и замечал у него Ефим расчетливость не по годам. Однако от похвалы суеверно воздерживался: хвалить удачу — беду дразнить. Судьба и без того строго обошлась поначалу с Ефремом и Степанидой. Весной года появился у них первенец Афанасий, а через неделю снесли его в крохотном гробике на погост, и в шорохе апрельского кладбищенского ветра почудился Ефрему злой взвизг писаринской стрелы.
Правда, на том и позабылась недобрая примета. Через год и четыре месяца после похорон родился Прокопий. И хотя Григорий принял мученическую смерть на пожаре, а Дарью сгубила оспа, дерево рода, словно ветла, ветвилось и крепло, и зыбкая тень его простиралась за околицу родной деревни.
Став семьянином, упорно, подобно корням молодого дерева, стал врастать в чебоксарский деловой мир Ефрем Ефимов. А государственный крестьянин, особенно из чуваш, должен был одолеть для этого невидимую стену, окружавшую торгово-предпринимательское сословие.
Чтобы выправить в казначейство свидетельство на право торговли да особый билет на каждую лавку, деревенский делец обязан был не только уплатить «цену», превышавшую купеческие и мещанские ставки, но и ежегодно доставлять доказательства «о принадлежности к православию или единоверию».
И Ефрем одолел все денежные препоны, а абашевский батюшка поручился перед казначейством за Ефрема. Остальное же «русского бога» не должно было заботить, ибо злато числилось уже за лукавым В году чебоксарские купцы потерпели от хлебной торговли большой убыток.
Позарившись на дешевку, закупили они зерна и муки сверх меры, повезли в Рыбинск, а продать толком не сумели — своих денег даже не выручили.
Потому в последующие два года хлебная закупка в Чебоксарах наблюдалась в прискорбно малых размерах. Когда же жаркое лето стало грозить неурожаем, а цена на хлеб резко расти, не все торговые люди поверили в скорую засуху. Вот тут-то и пустил в ход свои капиталы Ефрем с отцовского благословения. Не таясь, не опасаясь упрека в обманном торге, не стал он ждать, пока деньги совсем подешевеют, и набил зерном и мукою не только амбар с пристроем в своей деревне, но и задарма арендованный в городе лабаз, пустовавший по причине торговой нерадивости владельца.
Хозяин лабаза, обедневший, вечно пьяненький купец, завистливо осмотрел хлебное богатство Ефрема, икнул, но сказал надменно: — Дело, по всему выходит, верное. Видать, из молодых ты да ранних А на продажу повезешь по моему сказу. Совет, так и быть, подам в самый раз. Ефрем поклонился: — Сделай милость, поспособствуй! А сам подумал: «Только твоего сказу и не хватало! Уже в году цена на хлеб возвысилась так, что Ефрем под присмотром отца с великим прибытком сбыл на привоолжских базарах и зерно, и муку, хотя и поступился в цене на малую толику сравнительно с соседями по хлебному рынку, — чтобы не дожидаться, пока кто-нибудь иной еще ниже цену не собьет.
Продажа совершилась с такой быстротою, можно даже сказать, с поспешностью, что, когда хозяин лабаза, очнувшись от мертвецкого запоя, увидел помещение пустым, басовито прокашлялся и изрек туманно: — Во! А я про што говорил? Принял как должное и выставленный Ефремом прямо на конторку зеленый полуштоф, и смиренное благодарение «за честь, за ласку, да за отеческую науку». И потому ревниво присматривались в Шинерпосях к переменам в ефремовском дворе.
Вскоре после второй лошади появилась там вторая корова; прибавилось овец; свора длиннорылых свиней толкалась у долбленого корыта Разнотолки о прибытках Ефрема отец прихварывал и дел все больше сторонился заводили и старики, собиравшиеся подымить трубками, и соседки у родника, и подружки со своими дружками на улахах-посиделках.
И хотя удачливая торговля Ефрема у всех была теперь на виду, про клад не забывали и рядом со счастливой находкой, рожденной в деревенских разговорах, ставили уже самого Ефрема, а не его отца. Пас, мол, Ефрем стадо на берегу Цивиля, рядом с устьем, и в полуденный час, когда скотина млела от зноя, а Ефрем укрывался в кустах, приметил он лихих людей, пригнавших к берегу напротив большую лодку.
Поднялись те люди к нагорной дубраве, стали копать глубокую яму да класть в нее мешки с золотом. Ефрем, ясное дело, замер, не дышит. Дождался, когда отчалила лодка в сторону Волги, подобрался к заветным дубкам, откопал сокровище, схоронил в другом месте А снова пришел туда нескоро, брал понемногу, стал приторговывать, пока не сравнялся капиталами с чебоксарскими богатеями Старый Ефим от таких россказней только отмахивался да усмехался, но наедине строго наставлял Ефрема: — Твое дело помалкивать!
Было-не было, пускай народ сам гадает. Нам от того ни с какой стороны убытку нет А с людьми по-хорошему держись. Хлеба там али денег в долг — не отказывай. Другой, видишь, отдать не осилит — отработает. Зато уважение благодетелю окажет Оно, уваженьице-то, который раз подороже золота!.. Бог нам вон какие испытания посылает.
Земля словно камень. Ветер как из печи. Опять неурожаем господь грозится. Опять народ по миру пойдет, траву есть будет. Потому не лезь на рожон, поласковей будь с народом А про себя дело знай, за барыш всегда держись Многое выходило по словам отца.
И чем больше случалось сухих, обожженных солнцем весен да суховейных мглистых летних месяцев, сменяемых ранними осенними холодами, чем покладистее и добрее был Ефрем с односельчанами, тем чаще толковали в деревне о доставшемся ему кладе, упирая на то, что, мол, с пустым кошелем благодетелем не будешь. И не только в Шинерпосях, но и в окрестных деревнях в тоскливую нурожайную пору много было таких, кто видел честь и выгоду в родстве и близости с ефремовским домом.
Отрок Прокопий, не достигнув и десяти лет, уже ходил в крестных отцах, а к одиннадцати годам уже имел крестников и крестниц в двадцати дворах Абашева и Кугесь, Клычева, Байсубакова, Коснар, Тогашева. В просветах между торговыми хлопотами и иными доходными делами бывал на крестинах, в восприемниках от купели, и сам Ефрем. А дедушка Ефим изредка, и то больше в своей деревне, сиживал на свадьбах, неторопливо толкуя с тихими, степенными сверстниками, пока удушливый кашель не забивал слабевшую, хилую грудь, заставляя покидать шумное свадебное застолье Пять сильных неурожаев, девять послабее да четыре выборочно-пестрых недорода всего за два десятилетия — такого и старики не помнили.
На пути в город, на замиравших от зноя поселках попадались Ефрему в те годы безмолвные, как тень высохшие старики с темными отрешенными ликами, гневно-молчаливые старухи, черноногие страдальцы-поводыри. Низко кланяясь, они хватали дрожавшими руками брошенные Ефремом монеты и снова кланялись, поспешно крестились вслед.
Так случилось и в тот день, когда Ефрем, положив в казначейство увесистую пачку ассигнаций — выручку от удачной хлебной продажи и прихватив кое-что с собой, возвращался из Чебоксар. Подав милостыню, он вдруг с озорством сытно пообедавшего человека подумал об оставшихся позади божьих людях: «Вот ведь как оно выходит.
Ихняя молитва всенепременно достигнет бога, а стоит копейку, а то и денежку. Прямой барыш! Доброта души. Благоволение убогому. Насупившись, пустил лошадь шагом, стал перебирать в памяти деревенские дела. Голод томил людей и в Шинерпосях, Абашеве, Писарине — кругом. Многие ели траву, толченую кору. Каждодневно несли на кладбища отмучившихся.
Еще в конце минувшей зимы односельчанин Андрей Васильев, которого звали Аливаном, показал Ефрему лепешку с какой-то примесью. Была та лепешка будто из загустевшей глины — вязкая, зелено-коричневая, колючая. Завернув ее в холстину и сунув за пазуху, Аливан снял шапку: — Такое оно, пропитанье наше, Ефрем Ефимович Помилосердствуй, дай хоть пудик муки. Не помирать же. Детей прокормить не можешь, где уж тут долги.
Стараемся однако. Аливан побелел, затрясся, сказал тихо-тихо: — Что в моей работе толку-то! Все равно мне кроху, а тебе кусок.